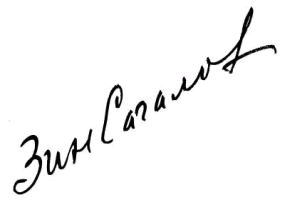Сергей Юрский о Зиновии Сагалове

ОСТАЛИСЬ ЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЧИТАТЬ ПЬЕСЫ? Ну, просто быть не может, чтоб таких совсем не осталось! Я, например - я остался. Драматургия для меня один из самых увлекательных жанров. Слева написано имя (кто говорит), правее - что говорит. Потом с новой строки другое имя, и - что он (она) отвечает. Всё! Человеческий разговор. Диалог. Потом вступают другие имена, слова, а за ними, за словами, - чувства, мысли, проколы подсознания, страсти..., судьбы.... У читателя начинает работать воображение, возникают лица, жесты персонажей, их манера говорить. Короче, я с детства любил читать пьесы. Позже, когда я стал профессионалом театра, вставали вопросы - хотел бы я поставить эту пьесу, сыграть эту роль? Но постепенно я объелся чтением пьес.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СКОЛЬКО ПЬЕС НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПИШЕТСЯ В ГОД? Примерно 500! Трижды я участвовал в жюри по драматургии, и каждый раз на нас сваливалась эта невероятная цифра - около пятисот. Что это было? На 95% - шлак, пустая порода. Были имена, слова, но за ними не было ничего - ни драмы, ни комедии, ни слезы, ни ужаса. Драматургия жанр особой сложности. Прямо со страницы текста должна возникать живая картинка, кинолента, или, как говорит Михаил Булгаков, «волшебная коробочка» сцены, где сталкиваются люди по воле судьбы, или по своей воле. Люди! Герои пьесы! Но никак не куклы, которым автор впихивает в рот собственные недодуманные мысли и не пережитые чувства. Драматургом надо родиться. Надо любить театр, надо жить театром. Надо внутри себя, явно, или тайно, самому быть артистом и режиссёром. И ещё - надо быть талантливым литератором. Вот так-то!
ЗИНОВИЙ САГАЛОВ РОДИЛСЯ ДРАМАТУРГОМ! Когда в руках у меня впервые оказалась пьеса незнакомого тогда автора, после прочтения десятка страниц, я сразу набрал номер телефона, обозначенный на последнем листе рукописи, и сказал: - Да! Нравится! Это надо ставить! Такого со мной не случалось никогда. Это была пьеса «Полёты с ангелом, или Седьмая свеча» - ШАГАЛ. Нет, не громкое имя героя меня завлекло (мало ли пишут пьес о великих людях!), и даже не смелость автора, пишущего свободным стихом, шекспировского размера (хотя стихи мне понравились), я доверился течению действительно СОБСТВЕННЫХ мыслей персонажей, поверил, что они действительно ЖИВУТ в «волшебной коробочке» театра. Уже живут! Независимо от того поставлю я этот спектакль, или не поставлю, даст мне Судьба сыграть Шагала и его прозрение в последнюю минуту жизни, или звёзды не сойдутся. Событие случилось - я узнал Драматурга!
Я РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛ ЭТОГО ИМЕНИ? Может быть, автор новичок в профессии? Или совсем молодой? Интернет подсказал неожиданное (сам я Интернетом не пользуюсь, но коллеги нашли): Сагалов – бывший харьковчанин, человек почтенного возраста, весьма известный в Украине, пьесы его многократно ставились в разных городах страны и издавались. Почему же имя не на слуху? Да знаете, на Руси ( в широком смысле слова, и в царской Империи, и в Советском Союзе) нередко так бывает. Человек может успешно трудиться и достигать определённых вершин, но если не вписался в жёсткую иерархию, если указательный палец Власти не ткнул в его грудь, то он как бы есть, а как бы его вовсе и нет. Вспомните рассказ А. П. Чехова «Пассажир первого класса». Там выдающийся инженер, строитель мостов, и его попутчик, почтенный университетский профессор, вдруг обнаруживают, что они не только толпе неизвестны, но и друг о друге понятия не имеют. А Зиновий Сагалов, пишущий в Украине по-русски, вдобавок ещё имеет несомненное тяготение к еврейской теме и к еврейским судьбам. Надо ли что-нибудь добавлять к сказанному? Не то чтобы добавлять, а развить тему, пожалуй, следует.
В полюбившейся мне пьесе о Шагале, «мастер из Витебска», как по началу его называли, всю свою долгую и плодотворную жизнь чувствует себя пронизанным своими местечковыми иудейскими корнями, он растёт из них. Он не может и не хочет от них оторваться. Но он РАСТЁТ! Его творчество и его личность вырастают во всемирное явление. Он часть России своими мощными иллюстрациями к «Мёртвым душам» Гоголя, часть Европы росписями самых выдающихся зданий и христианских храмов, и прежде всего, конечно, часть Франции, признавшей его своим, - Франции, где он жил, творил и где он похоронен.
В пьесе Зиновия Сагалова я увидел этот взлёт личности, вырастающей во всемирность.
Мне захотелось увидеть автора, поговорить с ним, послушать его.
А АВТОР-ТО ОКАЗАЛСЯ ЭМИГРАНТОМ! Что ж, теперь границы преодолимы. И я отправился в Германию, в Баварию, в сильно древний город Аугсбург. Мы познакомились с Зиновием Владимировичем и его женой Фрау Ритой (так она просила себя называть) в их квартире на тихой улице в той части города, где многие новые граждане Германии, общаются на русском языке. Фрау Рита была по-русски гостеприимна и кулинаркой оказалась превосходной. Напиток нашего общения тоже был по большей части родной - водка. Говорилось с Зиновием Владимировичем легко. Он маленько старше меня, но, в общем-то, мы люди одного поколения, и многое способны понимать с полуслова.
ТАМ, В АУГСБУРГЕ, А ПОТОМ В МОСКВЕ Я ПРОЧЁЛ ПОДРЯД НЕСКОЛЬКО КНИГ ЗИНОВИЯ САГАЛОВА. Большей частью это были пьесы. Моё первое впечатление о мастерстве этого драматурга подтвердилось. Чтение было увлекательным. Многое из того, что я прочёл тогда, вошло в этот том избранного, который Вы, уважаемый читатель, держите в руках.
Самой яркой фигурой из тех, что вывел Сагалов в своих драмах, стал для меня Соломон Михоэлс. Говорю не только о пьесе, но и о захватывающей прозе «Дело ДЖОЙНТ». Сочетание страшных документов и захватывающе убедительных реконструкций событий. Это тоже театр - трагический, ужасный и абсолютно реальный. Не пересказ разговоров, а сами разговоры, как будто автор был их свидетелем. Перед нами встают во плоти Михоэлс в своём последнем прощании с любимой Графиней, Лесь Курбас накануне ухода во тьму небытия, Лозовский и Щербаков - участники и жертвы трагедии. Берия и Сталин - инициаторы и дирижёры одной из грандиозных провокаций, приведших к множеству убийств. Выпукло мелькнули в воспоминаниях Перец Маркиш и Марк Шагал. Нарисовалась жуткая и достоверная картина начала государственного антисемитизма в Советском Союзе.
Не биографии выдающихся людей, а моменты переломов в их жизни, или их отражения, тени в других персонажах - П. И.Чайковский, упомянутый уже Курбас, Сара Бернар, Элеонора Дузе, И. Е. Репин, Франц Кафка... Разумеется, есть и пьесы, где отражена современность и где действуют сочинённые автором фигуры.
ТАМ, В АУГСБУРГЕ в скромной квартире приличного «социального жилья», вдали от Родины, продолжает трудиться и творить замечательный русский драматург Зиновий Сагалов. В эмиграции он совсем не похож на «чужого среди чужих». Ему повезло - он всё захватил с собой. А это «ВСЁ» - любовь к театру, талант театрального автора, ну ещё, добавим, - перо, бумагу и даже компьютер. Чего ещё желать!?
Я благодарен ему за наше радостное для меня знакомство. Я с удовольствием представляю Вам, уважаемый читатель, его труды. Они собраны автором в трех книгах, из которых первая называется «ТЕАТР ИКС». И это понятно. Написанная драматургом пьеса –«вещь в себе». Она становится явлением, когда театр воплощает во плоти то, что придумал автор.
Зиновию Сагалову не хватает русской сцены. Хочу пожелать ему, чтобы «Театр ИКС» стал для его драматических сочинений просто ТЕАТРОМ.

ИЗ ДНЕВНИКОВ
Аугсбург, 31 марта 2005 г.
Утром пошел к врачу. Рита еще спала. В двенадцатом часу возвращаюсь. Она в кресле, на всю комнату сладкий дурман валокордина.
- Что случилось? Слышишь? Что с тобой?
Молчит. Только глаза. Круглые, остановившиеся. Будто только что вынырнула из смертельной глуби с последним глотком воздуха.
Потихоньку успокоилась. Рассказывает:
-Только что звонила Яна (наша дочка, живущая в Мюнхене).
-И что?
-"Мам, говорит, ты знаешь, что сегодня ночью у папы была остановка сердца".
Я расхохотался.
-У меня? Сегодня? Чокнулась она, что ли?
-Заглянула к тебе –пусто. Может, скорая увезла? Сердце бултых, ноги подгибаются, крикнуть хочу – не могу. А она: "Мама, мама, что с тобой? Да не у нашего папы, у римского!".
Смех и грех!
В те дни в Ватикане медленно угасал уже лишенный дара речи Папа Иоанн-Павел II. Новостные сводки начинались сообщениями из Рима. И Янка, включив утром телик, услышала очередную.
Не у нашего папы, а у римского…
А у вашего разве не было? Радость и печаль останавливают сердце. Не навсегда – на мгновение. Чуточные, неожиданные сбои ритма. Вспомнил что-то – остановилось время. И вокруг уже все иное. Такими ли они были, те годы, на самом деле? Или так видится сквозь пелену лет?
От остановки к остановке. Тук-тук…тук-тук…

СЕМЬЯ. Харьков 1936 г.
ЛЕПЕСТКИ ЗОЛОТОГО ПЛАМЕНИ
Свечи в нашем доме зажигались только на Новый год. Огоньки, пляшущие на зеленых игольчатых лапах, веселили детскую душу. Но так недолго!..
Откуда мне, мальчишке, было знать в ту пору, что есть и другие праздничные дни, когда свет добра и милосердия должен входить в радушно открытые двери каждой семьи?
И по субботам, и на Хануку, и в дни Пурима унылый каждодневный свет раскаленной вольфрамовой нити освещал нашу обычную трапезу. Ибо мы были совками, жили в совковой коммунальной квартире ,где , кроме нас, жили еще семь совковых семей, для которых праздниками были только дни, отмеченные красными цифрами календаря.
Лишь бабушка Агнесса не желала слышать маминых увещеваний и проявляла рискованное вольнодумство. Ходила в синагогу, писала своим подругам поздравительные открытки, даже не пряча в конверты свои послания, написанные незнакомыми кучерявыми буквочками, и категорически не притрагивалась к пище в судный день "йом кипур" .
Помню, как в предпасхальные дни бабушка священнодействовала, выпекая втайне от соседей запретную в те годы мацу. Как раскатывала скалкой тесто, проводила на нем специальным зубчатым колесиком ровные бороздки и испекала в духовке тонкие ломкие коржи. Делалось все это ночью, пока соседи спали, чтобы никто, не дай Бог, не настучал, что в семье советских медицинских работников Сагаловых отмечали религиозный праздник.
И были плотно закрыты двери. И горела по настоянию Бабушки свеча. И был праздник Песах.
Бабушка усаживала меня на колени и тихонько пела мне какие-то необычные и непонятные песенки – то веселые, то печальные, вовсе не похожие на те пионерские, которые мы браво распевали в школе.
"Аф ун припечек брэннт а файер унд ин штуб из гейш",-пела бабушка Агнесса.
-Не забивай голову ребенку! - кипятилась мама. - У него в русском диктанте две ошибки.
-"Их об дих цу фил либ!" - пела, не сдаваясь, Бабушка, гладя меня по голове, и тут я уже точно понимал, что она поет о том, как любит меня.
Но вот ушла из жизни бабушка Агнесса, и никто уже не возжигал благостную свечу в канун праздника. Померкли в памяти ее песенки, лукавые и мудрые присловья. Навсегда, казалось, растаял тот дивный свет, который лился из ее кротких и любящих глаз.
Круговерть будней, литературная и театральная работа запорошили повседневными заботами далекие образы детства.
И вдруг в одночасье они выплыли из тьмы. Будто живые теплые волны, поднявшиеся со дна холодного свинцового моря. Должен был я писать тогда пьесу для Харьковского камерного еврейского театра. Мучился и уверял себя, что не смогу, ибо ничегошеньки не знаю о той жизни, про которую собирался писать.
И тогда вспомнилась мне бабушка Агнеса, улыбчатые ее словечки, веселые и грустные припевочки, и будто снова возгорелись и засияли передо мной негасимые лепестки золотого пламени.
СТАТЬ ТЕАТРОМ
В шесть лет легко и просто стать Театром. И режиссером, и актером, и драматургом, и даже билетером – в одном лице.
Вбей в противоположные стены комнаты по гвоздю, повесь на веревке одеяло или коврик, рассади на стульях и табуретках пять-шесть ребятишек из своей же коммуналки – и все, можно начинать.
На левой руке Негритенок, на правой – Баба с лукошком. Больше кукол нет, да и эти изрядно потрепаны. Но самое главное – нет сказки про этих двоих. Что же между ними произойдет, о чем им говорить? Эх, была не была, придумаем по ходу дела! Третий звонок, поехали!
К двенадцати годам не все уже так просто, как раньше. Во-первых, нет коммуналки, где был Театр – немецкая фугаска превратила ее в руины. И Баба с лукошком, и Негритенок сгорели, конечно, ярким пламенем. Во-вторых, здесь, за тысячу километров от руин дома родного, в убогом сельском клубе, при свете керосиновых "молний", ты уже не режиссер и не директор, и даже не билетер, а всего навсего скромный исполнитель крохотной рольки. Под белым халатом подвязана подушка, чтобы казаться потолще и посмешнее, а в голове коротенький рифмованный текст – роль Буфетчика из гусевской пьесы "Твоя песня".
Но тяжелее всего в семнадцать.
-Театр! Театр! Театр! – надрывно вопит юноша, в котором я узнаю себя, размахивая аттестатом зрелости.
-Нет! Нет! Нет! – дружно твердят Родители.
Дуэт подавляет солиста своей мощью, и любовь к Театру уходит в подполье. В университетские аудитории, где учат словесности и журналистике. В редакционные комнаты, где надо гнать из себя строчки про заготовку силоса и вывоз удобрений на колхозные поля. В кабинет НИИ, уставленный массивными шкафами и каталожными ящиками со строгой табличкой на дверях: "ПАТЕНТНЫЙ ОТДЕЛ".
Но в этом подполье – удивительное дело! – нежное чувство к Театру не только не увядает, не тускнеет, а наоборот, становится Самым Главным Делом Жизни.
Но это Главное Дело можно делать только за счет сна, по выходным или в командировках по основной работе. И подлинный кайф, когда болеешь, и милый доктор, внимательно выслушав тебя, словно заглянув в твое нутро, строго произносит: "Даю вам больничный еще на три дня. Если станет хуже, повторите вызов".
(О моя дорогая советская медицина! Как я тебя любил! Сколько вдохновенных часов ты щедро подарила мне! Ты была моим меценатом, моим заботливым спонсором, моим благодетелем и благотворителем! Я тебя никогда не забуду!)
Театры как средневековые замки. Они окружены невидимыми крепостными стенами. И каждый имеет два входа – парадный с ярко освещенным вестибюлем и убогий, обшарпанный, называемый служебным
Как легко и просто пройти через парадный – купи лишь билетик в театральной кассе и все остальное произойдет как по волшебству :тебе будут улыбаться, разденут и оденут, предложат программку, бинокль и даже бутерброд с колбасой в антракте.
Иное дело – служебный вход. Он для тех, кто служит в Театре. Шоферу – пожалуйста,истопнику или электрику – милости просим, не говоря уже о "посвященных" – актерах, гримерах, осветителях. Тебе же могут понадобиться годы, чтобы бдительный вахтер не встал на твоем пути в святая святых : "А вы куда, молодой человек? Подождите, я сейчас позвоню…".
И все же в один поистине прекрасный день скрипучая дверь служебного входа отворяется с милым мелодичным звоном. Нет, это еще не встречный марш, никакой ты еще не драматург и никто еще не думает заказать тебе пьесу для Театра (о чем ты тайно мечтаешь).Просто режиссеру Харьковского театра им. Пушкина Семену Лерману потребовалась пара песенок для спектакля "Карьера Артуро Уи", и ты их случайно сочинил, и их уже поют актеры, и всем это вроде бы нравится.
И происходит чудо! В амбразурах и бойницах высоких крепостных стен, окружающих театры, появляются приветливые, улыбающиеся лица. Черт побери, да какие же они все милые и обаятельные, а я-то считал их заносчивыми гордецами. Приглашают, заказывают, торопят…И всем нужны песни, зонги, баллады. Идея греческого хора, преломленная через брехтианство, наподобие повальной вирусной эпидемии, шествует по театрам шестидесятых годов. Разрушена четвертая стена, отделявшая актера от зрителя, прямо в зал летят слова:
|
Вы пришли сюда не отдыхать -
Спорить, верить, мыслить и мечтать!
Сердцем беспокойным и тревожным
Истину и Правду открывать
Шире, шире, шире стены театра!
Мир здесь открывается свободно.
Вы в него, друзья, войдете завтра –
Думайте, думайте, думайте
Сегодня! |
Эти слова летят в зал уже со сцены ТЮЗа. Они звучат в спектакле "Они и мы" по пьесе Н.Долининой.
А дальше… Поистине, "рука Всевышнего три чуда совершила"…Головокружительный успех и поздравления на премьерном спектакле. Самарий Зеликин острит: "Пьеса Долининой – прокладка между зонгами Сагалова". Это раз. Хаит, главный режиссер театра юного зрителя, приглашает меня в Театр заведующим литературной частью. Это второе чудо. А третье – просто уж совсем немыслимое: получаю задание писать пьесу. Она будет называться "Последние письма".
Знал ли я тогда, что ни одно из моих сочинений не пройдется так по моей судьбе, как эти "Письма"?
ПЛОМБА
Слово "война", помню, ворвалось в нашу дачную жизнь откуда-то из тенистой глубины сада. Там, в конце жердяной изгороди,
отделявшей нас от живущих рядом Егоянов, валялось в зарослях крапивы несколько выпавших кольев. Именно оттуда бежал сосед Сергей Артемович с этим страшным словом на трясущихся губах:
- Война! Только что!…Война!
И вмиг сломалась ласковое солнечное утро. Застыла, оцепенев, моя рука с ложкой пахучей клубники в сметане. Закончились неспешные прогулки на пруд, полуденный сон в гамаке, жмурки и прочая никому уже не нужная дребедень. Главным стал висящий на стене веранды самодовольно-круглый диск репродуктора, не выключавшийся теперь ни днем, ни ночью. Ни о чем хорошем он нам не сообщал. Немцы победно шли по Украине, захватывали города и села, вешали, расстреливали, жгли…
Вскоре мы съехали с дачи. В июле первые бомбардировщики, ведомые веселыми белокурыми асами, прорвались до Харькова. Пацанва охотилась за осколками авиабомб. Мы собирали их после налета на мостовых и на крышах. Рваные, искореженные железяки, изготовленные в далекой стране…
|
Та самая фугаска,
Та самая фугаска,
Которая на детство наше упадет..
Мы пели когда-то: "Если завтра война…",
Мы пели когда-то: "Если завтра в поход…"
Пожаром и дымом пришла к нам она
В тот сорок суровый и памятный год.
(Из моей песни в спектакле "Начало фанфарного марша") |
Осколки хранились в коробках из-под конфет. Ими обменивались, как марками или монетами.
В августе сирены раздирали душу почти каждый вечер. Бомбоубежище - подвальный этаж нашего же дома. Мы спускались туда втроем: бабушка, мама и я, каждый нес с собой самое ценное. Мама - документы и облигации "золотого займа", бабушка – столовое серебро, а у меня в руках был карманный фонарик, привезенный мне год назад соседом из завоеванной нами Эстонии. Папа с нами не ходил – намытарившись за день, он самозабвенно храпел на кожаном нашем диване, закрыв газетой лицо от проклятых мух. Он был героем, он не боялся бомб. Он спал глубоким мирным сном.
Разбомбили нашу тридцать шестую школу. 1 сентября мы пришли в чужие классы чужой школы № 82 на Чернышевской. В каждом классе стало теперь человек по шестьдесят, бои между хозяевами и пришельцами кипели и на переменах, и на уроках. Домашних заданий никто, конечно, не делал – разве только дураки и отличники. Умники же прекрасно понимали, что сейчас ни таблица умножения, ни действующие вулканы Азии, ни первое спряжение глаголов никакого значения не имеют.
Мама была занята подготовкой к отъезду. Паковала в мешки зимние вещи, обувь, посуду. Более ценное - платья, костюмы - укладывалось в большой коричневый чемодан с облезлыми боками. Перед самым отъездом мама обнаружила в одном из моих зубов дупло. Мог ли сын зубного врача отправиться в эвакуацию без пломбы? Сборы были приостановлены. Мы пошли к маминой знакомой, практикующему врачу по фамилии Бимбад (звали ее, по-моему, Эсфирь – да простится мне, ежели я ошибаюсь).
Это была дородная, цыганистого типа женщина с горячими обжигающими глазами,похожая, как я впоследствии отметил, на певицу Веру Александровну Давыдову в роли Кармен. Ее запястья, массивная царственная шея и мочки ушей переливались, сияли драгоценностями. Перед тем как зайти в кабинет мы немножко посидели в гостиной. Горка с хрусталем и фарфором, красного дерева мебель, невиданные замки и дворцы в массивных золоченых рамах – все это было так непохоже на нашу полутемную, длинную как коридор комнату в коммуналке с продавленным диваном и двумя школьными полушариями на стене, прикрывающими затертую трещину.
Пока я сидел с открытым ртом в кабинете, держа в поле зрения одну только зловещую бормашину, готовую со сладострастным визгом впиться в мой зуб, мама и Эсфирь продолжали начатый в гостиной разговор.
- Ты, Роня, сумасшедшая! Все бросить и уехать! И куда? К черту на рога?
- Мы поедем в Саратов, к моей сестре - отвечала мама. Внешне она была спокойной, лишь я знал, чего ей стоило принять такое решение.
- "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов"! –захохотала Эсфирь и вставила в бормашину сверло. - Открой рот, детка, шире, еще шире! У твоей сестры, Роня, что, лишние квадратные метры? Может быть, она имеет профессорские апартаменты? Ах, только одну комнату? Вот-вот, представляю себе, как она обрадуется, когда на нее свалится все твое семейство.
Завыла, зажужжала пыточная машина.
- Не все, Фира. Владимир с нами не едет.
- Умный человек твой муж, я всегда это знала.
- Он подъедет позже.
"Кармен" выключила бормашину.
- Ты уверена, что надо ехать?
Она наклонилась к маме и сказала внушительно :
- Мне рассказывал знакомый инженер. К ним на авиазавод приезжал маршал Тимошенко. Было собрание, общее, прямо в цеху. И он сказал : " Товарищи, работайте спокойно, никакой паники. От имени Советского правительства, от имени товарища Сталина заверяю вас, что Харьков мы не сдадим".
- Наверное, то же самое он говорил и в Киеве, который уже у немцев.
- Ну знаешь, Роня!…В конце концов, даже если придут немцы…Это же европейский цивилизованный народ.
- А ты газеты читаешь? Кто убивает, кто расстреливает? Не этот ли цивилизованный народ? И в первую очередь евреев.
Бимбад снисходительно улыбнулась. Орудуя шпателем, она уже заделывала замазкой дупло.
- Как ты можешь верить нашим газетам? Ты ведь умная женщина, Роня, неужели не понимаешь, что это все пропаганда?
Мама и Бимбад на прощание поцеловались. "Кармен" положила мне на головку унизанную кольцами руку.
- Придешь после войны. Надеюсь, моя пломба сохранится.
Через пару дней мы уезжали из Харькова. Южный вокзал был погружен в зловещую темноту. В черном небе шарили лучи прожекторов. Эшелон подали на седьмую платформу, мы бежали туда через пути, спотыкаясь о рельсы. Толпа брала штурмом наш вагон. Мешки и чемоданы по головам были вброшены в вагон. Мест оказалось меньше, чем числилось у мамы. Но эшелон уже двинулся. Сидели в полной тьме, не видя даже ближайших соседей. Изредка за окном вспыхивали синие зарницы разрывов. Поезд, спасаясь от бомбежки, убегал в ночь. Чей-то тихий голос затянул песню. "Розпрягайте, хлопці, коні…" Ее подхватили – тоже негромко. Прощались с Украиной. Кто знал, куда мы едем? В никуда…
Вернулись за год до конца войны. Харьков был весь в руинах. Остовы домов в поперечном разрезе. Бывшие квартиры – где штукатурка, где обрывки обоев. Висящие батареи отопления, мусор. Пошли на Рымарскую, к дому, где на втором этаже жила Бимбад. Он сохранился. Ее квартира, превращенная теперь в коммуналку, была заселена другими людьми.
В декабре сорок первого все еврейское население Харькова было согнано в бараки Тракторного завода и уничтожено. Среди погибших была и семья Бимбад.
А пломба, действительно, сохранилась.
ЭМИГРАЦИЯ КАК ПАРАДОКС СУДЬБЫ

И вот мы в глубоком германском тылу.
Я и Рита, 2001 год
|
В сорок первом путь в эвакуацию лежал на Восток. Ровно через шестьдесят лет, в 2001-м, навсегда простившись с Харьковом, я уезжал в противоположном направлении. Эвакуация –эмиграция…Тогда –от немцев, сейчас – к немцам…Не парадокс ли судьбы?
Погодка за окнами автобуса, захлестанными холодным апрельским дождем, была подстать состоянию души. И не удивительно – за спиной, отдаляясь с каждым километром, оставалось самое дорогое: книги, театры, друзья. Полдомика в Люботине с двенадцатью сотками смородины и малины и благостной тишиной, нарушаемой только утренним пением птиц. Одним словом, оставалась Жизнь. А надвигалось с той же скоростью Неведомое. Неласковое, непривычное, чужое.
За два дня до отъезда в Оперном театре увидела свет рампы опера "Поэт" по нашему с А.Беляцким либретто, и ощущение того, что эта премьера для меня последняя не только в Харькове, но и вообще в жизни, добавляло горечи и печали.
Утихомирить себя можно было только одним. Что сделано, то сделано, не грешно в моем возрасте и поставить точку. Буду жить, как говаривал наш университетский преподаватель, " травоядно – растительной жизнью". Читать, путешествовать, возиться с внуками. Пора и отдохнуть.
Так поначалу оно и складывалось. Жили мы до обретения собственной квартиры в "хайме" (общежитии). Небольшой чистенький городок Фишах находился в самой гуще Баварского лесного заповедника и располагал к ежедневным многочасовым прогулкам. Но любование красотами природы, как известно, часто сопровождается и "шевелением мозгов" на всякие другие темы. Короче говоря, стала выстраиваться, как бы сама по себе, давно задуманная пьеса, которую я безуспешно старался написать в Харькове. И вот здесь, в "хайме" (новый парадокс судьбы), под несмолкаемый грохот магнитофонов, стараясь не слышать кухонной брани соседок и визга малышни, я стал выстукивать на своем стареньком "ундервуде" (все-таки захватил с собой, на всякий пожарный, орудие труда!) драматическую историю о жизни двух великих примадонн мирового театра Сары Бернар и Элеоноры Дузе. И, по завершении пьесы, прочел ее нашим "хаймовцам".
С того самого дня то, что оставалось в сизой ностальгической дымке прошлого, начало сливаться с происходящим сейчас, будто никакого разрыва, никакого резкого и непоправимого слома не произошло. Захотелось жить так, как жил раньше. Только так, а не иначе!
ПИСЬМО ВНУКУ
 Дорогой Владик!
Дорогой Владик!
Очень близко принимаю к сердцу твои квартирные передряги. Жилье, а вернее его отсутствие – вечная проблема нашей семьи. Какой-то злой рок довлеет уже над третьим поколением нашего рода.
До войны жили мы в огромной коммунальной квартире – восемь семей, 30-35 человек народу, и на всех одна уборная, под дверью которой в любой час дня или ночи стояли страждущие, громко выражая свое нетерпение не только крепкими словами, но и громким стуком в дверь.
А на кухне, впритык друг к другу, как костяшки домино, стояли деревянные с тумбами столы, тоже восемь. И бранились по всякому поводу и без повода хозяйки, и гудели примуса, на которых обычный супчик варился полтора - два часа, и нестерпимый вонючий дым пережаренных котлет расползался по всему коридору. Полкухни занимала большая кирпичной кладки печь, которую топили дровами в дни больших стирок, когда в выварках под прыгающими крышками кипело, выкручиваясь на огне, белье, обдавая паром обшарпанные стены.
И это было мое первое жилье на Земле.
А дальше - война. И коммуналка вскоре казалась раем по сравнению с вагоном для скота, в котором на нарах и под ними, на полу, притрушенном жидкой соломой, ехали неизвестно куда выброшенные из своих домов люди. Спали чуть ли не в обнимку с незнакомыми людьми, сумка либо мешок под головой, тяжело вдыхая воздух с запахом мочи и кислой картошки.
Остановится посреди степи эшелон – повыскакивают из вагонов люди. Кто посрать, кто вынести умерших в дороге, кто воды болотной нечистой набрать, если поблизости какой-нибудь ставок или речушка. На больших станциях давали беженцам кашу, всегда почему-то перловую. Бегал я с какого-нибудь триннадцатого пути, куда загоняли эшелон, до первой платформы – с кастрюлей в руках, шарахаясь от пробегавших мимо поездов и бесстрашно ныряя под вагоны. И было мне тогда одиннадцать пацаньих лет. И гордился я, возвращаясь в теплушку с полной до краев кастрюлей, пышущей паром, и мама обливалась радостными слезами и благодарила бога, что я не попал под колеса и не отстал от эшелона.
Потом был Саратов, где в десятиметровой комнатенке жила мамина родная сестра Рива с мужем. И туда ввалились мы трое и поделили, условно, конечно, эти метры на пятерых. По два метра на каждую душу. Столько отводится обычно на кладбище. Приютили они нас, не выбросили на улицу, но ворчали украдкой, да и мы сами чувствовали, что лишние.
И это было мое второе жилье на этой Земле.
А Гитлер приближался к Волге, несколько раз уже "Мессершмитты" бомбили Саратов, и мама решила ехать дальше, в Среднюю Азию. Без сожаления мы расстались с саратовской комнатушкой и бесстрашно помчались дальше, на Восток.
В городе Чимкенте, на юге Казахстана, с трудом (из- за наплыва эвакуированных ) сняли комнатку в глинобитном доме, похожем скорее на сарай. Я думаю, что до нас там действительно держали овец или другую живность. Покрыт этот сарайчик был не то камышом, не то тростником, не помню, пол был земляной. Вместо кроватей мы спали на сбитых из досок нарах, занимавших полкомнаты. Спали покатом, рядышком – я, мама и бабушка, укрывшись какой-то рванью.
Мама записалась на курсы бухгалтеров – там давали паек как служащим. Зимой она ходила в двух разных ботах - один на каблуке, другой без каблука. Так в спешке и суматохе сборов запаковала их в Харькове. Вечером, освещенные колеблющимся огоньком коптящего фитилька, мы уплетали лакомство военных лет – "затируху". Нечто вроде клея, сваренное из щепотки ржаной муки в подсоленном кипятке, без всякого масла и жира.
И это, Владик, было мое третье жилье на этой Земле.
Так вот, жили мы в этом Чимкенте втроем – я, мама и бабушка. А отец мой, поехав на Украину, попал в окружение при внезапном летнем наступлении немцев в июле 1942 г. Девять месяцев от него ни письма, ни весточки. Мы считали его погибшим. Мне в школе выдали сатиновую курточку как сыну пропавшего без вести, и я, дурак, радовался ей и очень гордился.
И вот, помню, идет урок казахского языка. Я сижу на третьей парте и мучительно вникаю в незнакомые слова. А учительница наша Роза Тюлегеевна пишет мелом на доске что- то вроде : "бала жуйру къаласы Караганды",и я уже тяну руку, чтобы перевести эту немудреную фразу, как вдруг…Приоткрывается дверь и я вижу узенькую полоску маминого лица и ее радостный глаз, будто плачущий. И треугольничек письма в ее робких, мелькающих в створе дверей пальцах.
Я тут же выскакиваю, училка что-то гневно кричит мне вслед. Но мы уже стоим у подоконника, в коридоре, и, обнявшись, читаем, передавая друг другу, письмо отца. Да, жив! Да, выбрался из окружения! Да, живет в Воронежской области, заведует деревенской аптекой и зовет нас к себе! И у него есть для меня трофейная итальянская авторучка, немецкая солдатская сумка, с которой я буду ходить в школу и настоящий танкистский шлем.
Ура! И зимой сорок третьего года мы прощаемся с Чимкентом, и эшелон везет нас в обратный путь. Зимой, в лютый мороз, мы делаем, после недели пути, пересадку в Москве, двое суток ночуем на своих вещах в зале Казанского вокзала, на заплеванном и замызганном кафельном полу, покуда маме не удается в страшной сутолочной битве у касс другого, Курского, вокзала, добыть, наконец, билеты до Воронежа.
Встреча с отцом произошла на станции Бутурлиновка, куда он приехал встречать нас. Замерзшие и голодные, мы отогревались в доме местного аптекаря. Содрав в дворовой уборной одежду, я с мстительным упоением бил вшей, накопившихся за время пути –их было больше сотни. Я выискивал их в складках нательной рубахи, во швах, ногти мои были красные от собственной крови, высосанной этими паразитами.
А в большой столовой уже был накрыт стол. Огромные блюда с лоснящимися от жира котлетами в окружении соленых огурчиков и квашеной капусты. Над чугунком с отварной картошкой поднимался ароматный парок, а каравай хлеба с глянцевитой корочкой был только что вынут из печи и торжественно водружен в центре стола.
Это было просто чудо, оазис, раскинувшийся перед путниками посреди голодной снежной пустыни. И можно было есть сколько хочешь. Да не просто есть, а жрать, жрать и жрать – за два военных года и за те, которые еще впереди. Оба аптекаря и наш кучер Василий круто пили разведенный спирт и провозглашали тосты за победу, а я пел самую любимую тогда песню из только что вышедшего на экраны фильма "Два бойца":
"Темная ночь, только пули свистят по степи…."
Не Бернес, конечно, но подвыпившие аптекари и все сидящие за столом были растроганы до слез.
А утром мы попрощались с гостеприимными хозяевами и отправились в ту деревню, где жил сейчас отец. Она называлась очень романтически – Верхние Гнилуши. И, наверное, не зря. Как потом я узнал, до сорока процентов жителей ее страдало наследственным бытовым сифилисом и встретить старика или бабусю с проваленным носом было обычным явлением..
От Бутурлиновки до Верхних Гнилуш было восемьдесят километров. По нынешним временам часа полтора-два езды. А мы добирались… трое суток! По снежной степи, в двадцатиградусный мороз, в открытой всем ветрам телеге. А везли нас два ленивых круторогих вола. "Цоб-цобе" подгонял их Василий, поочередно огревая кнутом их костлявые крупы, но они лишь равнодушно вертели хвостами, сплевывая перед собой тут же замерзавшую жвачку.
Чтоб согреться, мы с отцом спрыгивали с этой арбы и шли рядом с волами, усиленно топая и размахивая руками. А женщины – мать и бабушка - сидели в этой телеге, зарывшись в солому и с головой укрывшись одеялами. К вечеру – так был составлен маршрут – мы приезжали в какое-то село, тоже к аптекарю, ночевали там, отогревались и наутро снова продолжали свой путь сквозь пургу и метель. К вечеру третьего дня, полуобмороженные и голодные, мы въехали в Верхние Гнилуши и остановились перед большим кирпичным домом с занесенной снегом вывеской "АПТЕКА". Отец открыл двери, и мы ввалились в жарко натопленные комнаты, где уже ждала нас, сияя улыбкой, санитарка Тоня.
И это было четвертое жилище, уготованное мне Судьбой.
Комнат было много – три или четыре. С высокими потолками, чисто выбеленными стенами и настоящими кроватями, от которых мы уже отвыкли. И никаких соседей, как в харьковской коммуналке! И никаких хозяев, как в Чимкенте! Квартира занимала полдома, в остальной части располагалась аптека. Услышав дверной колокольчик, отец шел на работу. Отпустив покупателя - возвращался. Красота!
Он сам составлял лекарственные препараты, разливал по бутылочкам разноцветные микстуры от всех болезней. Сам готовил мази и кремы. Компоненты тщательно взвешивал на маленьких весах с крохотными гирьками, он называл их "разновесы".
Я помогал ему раскладывать порошки в пакетики. Времени у меня было предостаточно. Уроки я не готовил, учебник раскрывал только в школе. Почему? Во-первых, война приучила сачковать: сегодня ты здесь, завтра -там, все жили одним днем – сегодняшним. Во-вторых, по сравнению с сельской ребятней в моем пятом классе я был всезнающим инопланетянином. А в-третьих, сыну одного из самых уважаемых лиц в деревне достаточно было только раскрыть рот, как ему уже ставили пятерку в журнале. (Только в Харькове, очутившись в нормальной городской школе, я понял, как я отстал от своих сверстников! Приехал из эвакуации форменным неучем!)..
Летом 44-го, когда фронт откатился уже к западным границам СССР, мы возвратились в Харьков. Город стоял в руинах, люди возвращались из эвакуации, и жилья не хватало. Мы временно поселились на ул. Данилевского, в квартире, принадлежавшей маминому двоюродному брату Павлу Семеновичу. Он выделил нам, ч е т в е р ы м, 12-метровую комнатенку (из своих двух). Отец пытался через суд возвратить нашу коммуналку, но ее занимала сотрудница НКВД, и праведный советский суд нам отказал.
Павел Семенович предложил нам купить эту комнату за 10 тысяч рублей.
Буханка хлеба на рынке стоила тогда сотню, и деньги это были не столь уж большие. Но их просто не было. Мама решила продать свой отрез на платье – английская шерсть, берегла его всю эвакуацию. Мы вдвоем пошли на Благбаз, на толкучку, влились в десятитысячное людское море, колыхавшееся между ларьками.
Три тысячи нам дали сходу, но мама не уступила. Прижимая отрез к груди, она пробивалась дальше, я за ней.
"Женщина, что там у вас упало? " - вдруг услышали мы громкий голос, мама оглянулась – и в эту минуту отрез на платье был выдернут из ее рук. Мы кричали, мы пытались пробиться сквозь толпу – но куда? Кого мы хотели найти? Базарная милиция только развела руками и посоветовала быть внимательными в следующий раз.
Пришлось занимать у родственников, у знакомых. Вручив Павлу Семеновичу 10 тысяч и прописавшись, мы стали обладателями этой комнаты, которая стала
моим пятым жильем, где я прожил ДВЕНАДЦАТЬ лет.
Теперь представь, как мы жили. Родители спали на кровати с панцирной сеткой, я на диване, а бабушке на ночь составляли из четырех стульев крестом ее ложе, и не было ночи, чтобы не отодвигался стул и бабушка не летела на пол. Посреди комнаты стояла в течение первых послевоенных лет железная печка, трубы были выведены в окно, выше крыши, чтобы была получше тяга. Когда за окнами выл ветер, печурку "задувало", весь дым шел в комнату, мы все задыхались, а отец, астматик, выскакивал на лестничную клетку и, надрывался в сухом нескончаемом кашле так, что казалось, все внутренности выхаркает наружу.
Топили дровами и углем. Отец тогда работал в аптечном магазине на Университетской улице, это в районе нынешнего цирка. Мама помогала ему первое время. Для магазина получали уголь – тогда это был страшный дефицит. И родители приносили с работы по ведру угля. Я не оговорился - п р и н о с и л и. Потому что в первую зиму трамваи еще не ходили до Госпрома и приходилось нести эту тяжесть пешком.
В этой комнате прошли мои школьные годы и все пять лет студенчества.
Чтобы иметь возможность заниматься, я выгородил себе в общей кухне халабуду
площадью 1 кв. метр, завешанную с двух сторон коврами, оставшимися от прежней жизни. Третьей стороной была стена нашей комнаты, а четвертой – кусок окна, в котором я задумчиво искал вдохновение для своих стихов. Ведь главным назначением этой халабуды была возможность заниматься стихотворчеством.
Купались мы в корыте, в баню я брезговал ходить и пределом мечты была однокомнатная квартира с ванной и балконом. И в конце концов она появилась, но не сразу.
Познакомившись с Ритой, твоей бабушкой, тоже бесквартирной, мы стали снимать комнату на Московском проспекте, в районе Красного Луча, это за Велозаводом, за 20 рублей в месяц. И прожили там, наслаждаясь любовью и свободой, несколько зимних месяцев, до 27 марта 1958 года, когда ночью, на Данилевской, скончался от инсульте мой отец и нам эту скорбную весть принес мой друг Боря Зисканд – ведь телефонов тогда почти ни у кого не было.
После похорон папы мама осталась на Данилевского одна (бабушка скончалась за два года перед этим) и предложила нам с Ритой жить вместе. Мы перенесли наш нехитрый скарб, заняли диван с высокой спинкой и валиками с двух сторон. Мамину кровать мы отгораживали на ночь от себя тряпочной занавеской. И все, что положено двум молодым людям в постели, совершали шепотом и лишь когда мама засыпала.
Не помню уже, у кого из нас возникла идея разделить квартиру с соседями. Благо, она имела два выхода на разные подъезды. Началась долгая канитель- разрешение горсовета, составление проекта, согласование с пожарниками и пр. Достали весь необходимый материал: древоплиту, фанеру, бревна. Эти бревна, сырые и тяжелые, до сих пор в моей памяти. С трудом разворачиваясь на крутой и узкой лестнице, мы их вдвоем с Ритой поднимали на пятый этаж. А ведь она была уже беременна твоей мамой Яной! А сколько ведер строительного мусора мы вынесли! Канализационных негодных труб! Старой трухлявой мебели, включая родительское ложе с панцирной сеткой!
В результате мы оказались в крошечной изолированной квартирке, в которой, кроме маминой, двенадцатиметровой, появилась темная, без окна, комнатка метров на шесть, где стояла наша с Ритой тахта и Янина деревянная кроватка. И хоть вход с подъезда был прямо в комнату, без прихожей, мы блаженствовали в этой первой изолированной, хоть и самодельной квартире,
которая и вошла в мою жизнь, как жилье №6.
Росла Яна, из подъезда, не защищенного прихожей, страшно дуло, ванны по-прежнему не было. Рита стояла в очереди на жилье, мы ее поэтому не прописывали к себе. Очередь в институте огнеупоров двигалась медленно, сопровождаемая скандалами и профсоюзными разборками. Нам удалось выведать страшную тайну-номер нашего будущего дома на ул. 23 августа и даже номер квартиры, на которую нам должны были после сдачи дома выдать ордер. Дом, еще недостроенный, был обнесен забором, и мы время от времени приезжали, чтобы в щелочку посмотреть, что же там делается. Чем ближе шло дело к вселению, тем больше интриг вокруг вроде бы уже выделенной нам квартиры разгоралось в профкоме института. Объявился очень сильный претендент, отставной офицер с большими заслугами, и открыто заявил, что возьмет эту квартиру штурмом. И тогда мы сделали решительный шаг. Приехали к "своему" дому с замком и уговорили сторожа, дав ему, конечно, на бутылку, поставить этот замок в нашей квартире. Это был гениальный ход. Накануне вселения, мы пробрались в свой подъезд и вошли в свою квартиру. Батареи отопления еле работали и мы, чтобы не маячить в окнах и для "сугрева" легли на полу у батарей.
И вдруг, в два или три часа ночи, двор огласился криками, мы слышали, ничего не понимая, как подъезжали одна за другой машины, как по лестнице топали какие-то люди, дергали двери, в том числе и нашу. Мы лежали ни живы, ни мертвы. Боясь пошевелиться.
Оказалось – надо же было случиться такому совпадению! - что в одном из домов на Рымарской улице произошел взрыв газа, начался пожар и всех жильцов-погорельцев начали спешно расселять в сдаваемые в эти дни дома. Но замочек нас спас! В мае мы торжественно отметили свое новоселье, позвав столько гостей, что сами уже, сняв двери с петель, сидели на лестничной клетке. Гуляли вовсю, от души, ибо мы уже имели и ванну, и балкон, и это было
мое седьмое жилье
и радость наша была беспредельна.
Мама же оставалась одна на Данилевской, телефона ни у нее, ни у нас не было, и я конечно, волновался как ей там одной. И встал вопрос об обмене. Не могу даже припомнить, сколько месяцев, кажется, целый год, ежедневно после работы, простоял я на квартирной бирже, пытаясь выменять трехкомнатную за наши две одинарки. Мамина самоделка не нравилась из—за отсутствия прихожей. Наконец, мне посчастливилось – в одной организации дали трехкомнатную квартиру на размен двум семьям. Но одна претендовала на двухкомнатную и не хотела идти в нашу одинарку. К счастью, начальство их организации заставило их соверщить этот обмен насильно и, несмотря на их угрозы, мы вселились на Отакара Яроша 41, в сорок первую квартиру,
которая и стала моим (или уже нашим общим) восьмым жильем.
Оно тебе хорошо известно, ибо все вы выросли в этой квартире, полученной после стольких бездомных мытарств.
Ну а дальше был Люботин - девятое по счету жилье, и нынешняя наша обитель – десятая, уже в Германии.
А написал я тебе об этом, чтобы ты не падал духом, хоть непросто это выстроить - Свое Гнездо, Свой Дом.
Твой Дедушка
П.С. Перед тем, как отправить тебе это письмо, я прочитал его Бабушке. На ее глазах были слезы. "Почему ты плачешь?" - спросил я. - "Как быстро прошла жизнь…" - ответила она.
29 января 2007 года.
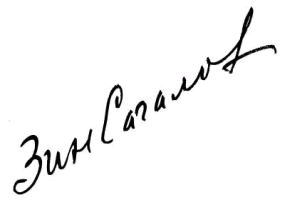

Все мы сегодня. Аугсбург 2006 год.
|





 Дорогой Владик!
Дорогой Владик!